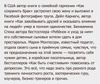Не соглашусь.
Тут очень тонкий момент, попробую объяснить. В вашем случае ребенок не уступает место, потому что у него его нет, а цель - именно научиться
уступать пожилому человеку, не важно, что – место, очередь, слово. Молчать, когда говорит старший, стоять, если старший еще не сел. Вот смотрите, там, в конце будет:
Показать скрытый текстДвор моего детства. Старая квадратная беседка: четыре покосившихся опоры, решетка, похожая на некрашеный забор, но нежно увитая плющом. В ранней юности плющ вечерами шептал о любви и о юге, о пляжных ночах с цикадами и о пьянящем море. Бедная сибирская родственница бельведеров парков Италии. Бабушка упрямо и элегантно называла ее ротондой, несмотря на грубоватые листы шифера, о которых мы, ненасытные дети, с ужасом мечтали: «Вот упадут когда-нибудь нам на головы и всех придавят!»
Крышу беседки поддерживал столб, ровный и гладкий, как тонкая колонна, вокруг него мы играли в карусель, в лошадь, привязанную к столбу, или в гимнастку. Там же ставились спектакли, давались концерты, и зеленые, терпкие листья плюща были билетами, которые зрители – соседки в домашних халатах, крутили в пальцах или пожевывали, сидя на длинной скамейке беседки.
По утрам на ней сидели совсем пожилые женщины – выходили во двор в деревенских платках, чистых, наглаженных, несли старые шерстяные одеяла – постелить на скамейку, вязание (крючком или спицами), садились и смотрели вокруг спокойными глазами – на деревья, на кусты и огороды, на крупных молодых женщин, шагающих с тазами до бельевых веревок, кричали мужчинам в гаражах: «Витька, твойный брат машину, что ли купил? А? А?... Не слышу я». «Ничего он не купил, - поднимался во весь рост грязный, вспотевший Витька, - это его жена купила, а он с ней разводится».
Ближе к летнему вечеру, когда бабушки в платочках шли в прохладу тихих спален - отдыхать на пышных подушках под кружевными накидками, в беседку приходили полные работящие женщины, ставили у ног пустые тазы, сначала сидели молча, глядели в синее небо, уставшее от жары, смотрели на белое облако, светящее, одинокое, как уходящая душа, потом разговаривали. «Корсаковы-то дочь замуж выдали?» «Выдали. На трех машинах, свадьбу в городе сыграли». «Так у него мать товаровед?» «Товаровед. Говорят, на свадьбе ананасы были». «Богатые! Дочь у них долго хвостом крутила…» На этом вставали, поднимали пустые тазы и шли домой – делать окрошку, гладить пододеяльники.
Когда плющ становился ярким и сочным от вечернего солнца, мы собирали друг друга криками: «Пойдем в беседку снимать кино! А давайте лучшие страшные истории!» Страшные истории были самыми прекрасными. После разминки – красная рука, живущая в черном-черном доме и хватающая всех за горло, черная перчатка, уже не помню, чем страшная, - я начинала рассказывать про белое лицо.
За беседкой росли бабушкины кусты смородины, которую воровала странная чувашская женщина, наша соседка: на ее огороде «леший покакал», и теперь там ничего не росло. Я смотрела в сумеречные, уже вечерние кусты, сладко окуналась в неясно откуда плывущие ужасы и рассказывала. «В подъезде, в таком же, как наш, была одна квартира. В ней жила женщина и ее дочь, которую никто никогда не видел, а тот, кто видел, сходил с ума. И раз гуляющие дети посмотрели в окно квартиры, где жили дочь и женщина, и увидели над цветочным горшком пустое лицо – ни глаз, ни носа, ни лба – просто яйцо, оно было грустным и страдающим вечными муками. Все дети сошли с ума».
У меня холодели руки и ноги, мы стонали от сладкого страха, да еще ждали, что шифер рухнет. Дверь подъезда открывалась, появлялась женская нога – закрытая белая босоножка на капроновый носок, трость, чуть выше – светлое поле солнечной шляпы, мы замолкали, и когда шляпа, трость и белый носок медленной ноги приближались, вскакивали со скамейки и весело звали: «Здравствуйте, Эльвира Ивановна! Садитесь сюда».
Во дворе моего детства ни у кого не было таких шляп – кружевных, розоватых и бежевых, совершенно южных, помнящих акации и путешествия на море Эльвиры Ивановны, гордой и, наверное, роковой жены члена райкома партии. «С норовом!» - сурово отпечатывала моя бабушка, «А как это – изменять мужу?» - уточняла у бабушки я дворовые слухи и, конечно, получала в ответ: «Не нужно собирать все подряд».
Эльвира Ивановна была элегантной загадкой в кружевной шляпе, с камеей из слоновой кости, в беседку приходила только вечерами: без любопытных старух в платках и без работящих, боевых женщин с тазами. Но нас терпела. Усаживалась, светлая шляпа тайной покрывала половину лица, «В прошлом году, в это время я отдыхала в Грузии… Тут у вас плющ, а там – все поросло виноградной лозой. Лермонтов тоже любил Грузию, помните?
В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.
А потом там у него, - помните? – про прекрасную царицу Тамару:
В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла».
«Да вы что стоите, садитесь, тут места много», - задумчиво водила тростью по земле Эльвира Ивановна, превращенная в Тамару-демона, но мы не хотели садиться – мы хотели стоять и смотреть на прекрасную белую южную шляпу и мечтать о реке Терек, о высокой тесной башне и о виноградной лозе Грузии.
Скрыть текст  ладно, если б там были Вы, то десять человек матюгнулись бы, пять получили синяки, бабушка бы наехала не на девчонок, а на тех, кто мешал её перемещениям по забитому салону с самокатами, а Вы с чувством выполненного долга "кто молодец? я молодец!" продолжили бы движение уже в вертикальной позиции
ладно, если б там были Вы, то десять человек матюгнулись бы, пять получили синяки, бабушка бы наехала не на девчонок, а на тех, кто мешал её перемещениям по забитому салону с самокатами, а Вы с чувством выполненного долга "кто молодец? я молодец!" продолжили бы движение уже в вертикальной позиции 



 я думала это я зануда, ага, да я по сравнению с вами тут вообще... ангел во плоти))
я думала это я зануда, ага, да я по сравнению с вами тут вообще... ангел во плоти))
 . А с годыней светлое вы принять не сможете(
. А с годыней светлое вы принять не сможете(
 и вот да, о гордыне тема, о вашей
и вот да, о гордыне тема, о вашей
 Ну, чо, респект Вашим воспитателям - скромность они исключили от слова "совсем"
Ну, чо, респект Вашим воспитателям - скромность они исключили от слова "совсем"  Опять чота ржу
Опять чота ржу ); тонкая-врач/завкафедрой-интеллектуалка-красиваяотприроды (Г. Гарбо же!)
); тонкая-врач/завкафедрой-интеллектуалка-красиваяотприроды (Г. Гарбо же!)  Это сколько же в Вас на самом деле недодаденного, что Вы всё воплощаете в своих "произведениях"... даже тут, по Вашим словам "болоте"... Жаль-печаль, но! Что выросло, то выросло
Это сколько же в Вас на самом деле недодаденного, что Вы всё воплощаете в своих "произведениях"... даже тут, по Вашим словам "болоте"... Жаль-печаль, но! Что выросло, то выросло 
 :
: